Утка с золотыми яйцами.
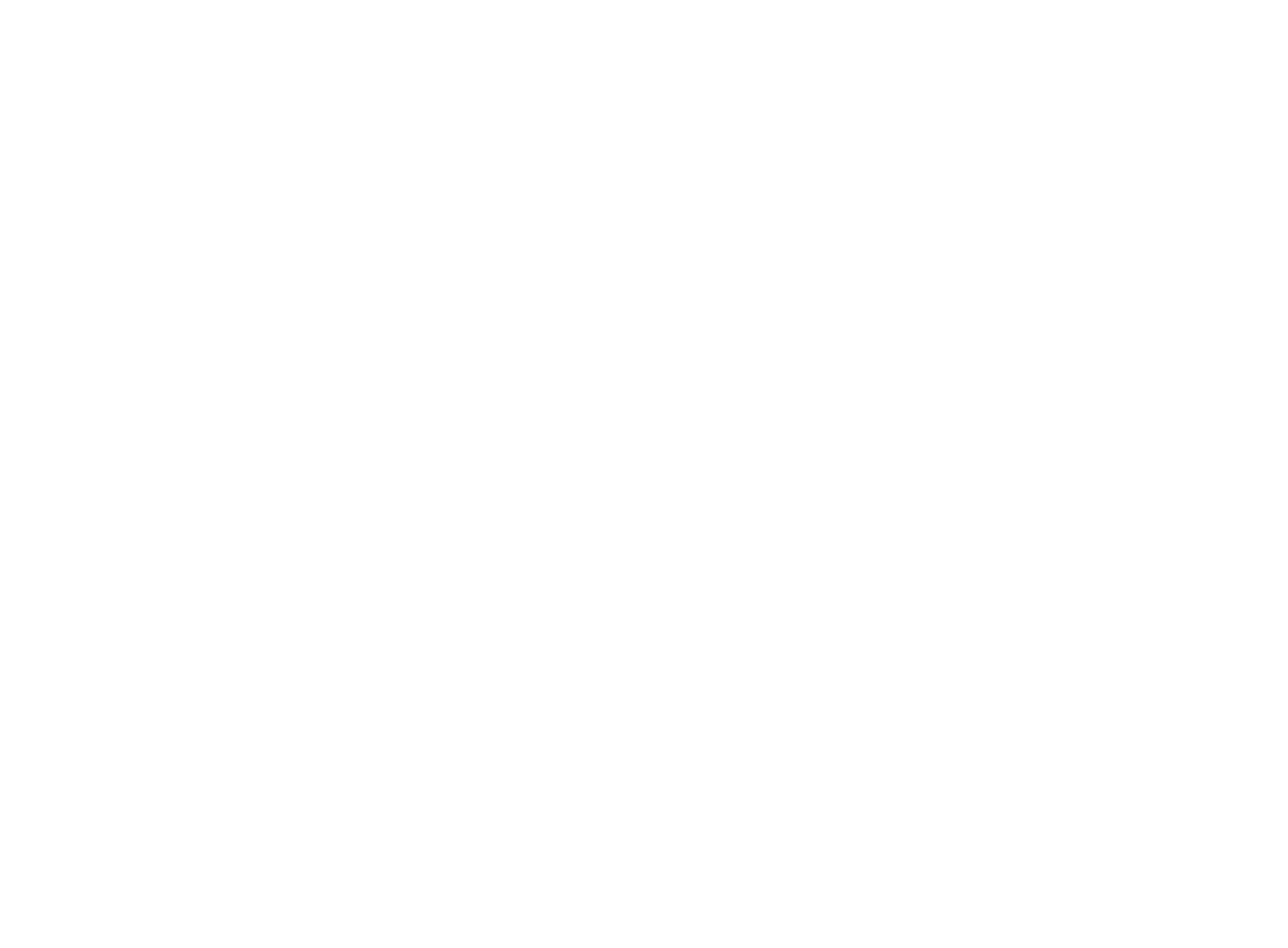
Жили-были два брата. Как оне от отца остались, отец помер у их, ну и живут себе, придумали разделитца. Капиталу всё-таки у их падхо́же было. Разделили всё поровну. Ну и стали всяк себе жить, тот себе, а тот себе. Как у старшево брата не выходит ничево, всё как-то иначе. А младшево всё идёт лутче. В течение десяти лет старший брат совсем плохо за́жил, всё источилось у нево. Нигде у ево нет попра́ву. А младший брат выше и выше в гору разжива́тца. До тово дошол, што осталась одна конь и одна коровёшка, и роззрился, одним словом, што плохо.
Сколь ни бился, одно время удумал:
— А, пойду на пашню, посмотрю, если плохой урожай — и удалюсь куда-набидь.
До пашни своёй не дошол, видит на поло́се ево ходит старичонка згриблёный и рвёт с ево поло́сы хлеб и на бра́тову поло́су со́дит. Подходит к пашне.
— Ей, старый хрыч, чо тут делашь? Ты што делашь, у меня и так хлеб плохой и так раза́риваюсь, а ты на братову полосу рвёшь, у ево и так хлеб хороший. Вот как сгребу я тебя за́ бороду.
— А как же я не буду рвать, хлопотать? Я твоёво брата счастье.
— А моё счастье где?
— А твоё счастье под липой евон, под кудрявой спит — вишь, как оно об тебе беспокоитца.
Подходит он к липе етой, видит там, верно, спит згриблёной старичонко под липой на перине. Берёт он дубину хорошую, етот мужик, и давай ругатца на весь упор.
— Вишь ты, у людей-то как помогают, а ты лежишь, да спишь, меня без куска довёл.
Старик сади́тца, продират свои глаза, руку в карман, подаёт ему заржавлену копейку. Мужик копейку взял, отошол, воротился.
— Он што, старый леший, насмеялся надо мной? Што я на её изделаю? На её, копейку, спичек не купишь.
Ворочаетца он к ему:
— Ты чо же ето мне на смех дал?
— Иди, иди — не ругайся, начинай.
Вот он, етот мужик:
— Дай же я зайду на базар.
И всё себя умствует:
— Чо жо я на копейку могу купить?
Видит, старик утку несёт.
— Ну, так купи утку.
— Што ты сшалел, на чо я куплю её? Денег у меня нет — одна копейка.
— Давай её сюда, бери утку.
Купил мужик утку, несёт домой.
— Ей, хозяйка, я утку купил, принёс домой.
— Тут еще не до утки, самим ждрать нечево, а ты тут с уткой!
Заругала ево.
— Ну, да хошь, свари её, детишки поедят её.
Со зла утку в шесток закинула, и пошли спать. Ночь уж пришла.
Утром стали, из-под шестка ребятишки выташшили золото яичко.
— Што тако? — весьма оне все обрадовались.
Мужик за яйцо, да на базар. Продал яйцо ето — ценно оно. Накупил себе провизию, одёжи, всево. И стала ета утка кажный день золото яйцо нести. Стали утку наблюдать, на́стовать. И в пять лет оправился мужик с етих яиц. Открыл даже мангазины свои. В пятнадцать лет минуло: сильный, огромный богач стал, и у ево по разным странам мангазины стали. Утке уже золотую клетку сделали, два мальчика в школе уж учатца, так што етому купцу мало уж дома приходитца жить, много заботы изделалось. Ну, а баба, жана ево, нашла тут ха́халя хорошево, подхаживат к ей в гости.
В одну прекрасную время хахаль гулял, гулял к ей, и стал по разным комнатам обхаживать. А оне ету утку редко кому казали. А тут увидел етот хахаль, што за антересная такая утка, взял, обсмотрел. Как у ей под крылом надпись: кто съест у этой утки все кишки́, потрошки́, всё на свете будет знать, а кто съест голо́вушку, тот будет царём.
А оне хозяева, што сами не знали ету надпись. Етот хахаль у их всё патробно прочитал, утку на место посадил, и стал ету жану ласкать.
— Вот што, душечка, ежели любишь меня душевно, заколи́ ету утку.
— Ах ты, дорогой мой, нельзя же. Сам-то чо мне скажет. Мы ею живём. Рада бы я гля тебя душой, но нельзя же.
Одно к ей привязался, ласкат её, просит, а то страшшать стал:
— На конфуз тебя выведу, на смех!
Она решилась эту утку заколоть. И повару заставила утку приготовить к обеду. И так наказал он, штоб головушка и кишки́-потрошки́, всё сохранно было у утки.
Как повар приготовил утку, обед ешшо с нево не просют. Прибегают из школы дети и сразу исть просют. Прибегают к повару на кухню, повар куды-то отлучился; ну же, как ребятишки, видят, стоит жаркое, один взял да съел головушку, а другой кишки́ да потрошки́. Ну, закусили дети и убежали опеть в школу. Требуют с повара, обед штоб подавал. Повар наложил утку и несёт подавать.
— А где у тебя головушка да потрошки?
Повар обсказыват:
— Ну, што, дети прибежали глупые, уташшили кишки-потрошки да и съели.
Товда етот гость вспылил над поваром:
— Хорошо не мог ты и етово сохранить!
Товда со зла не стал он ету утку и закусывать.
— Товда, дорогая моя, заколи ребятишек, вытаскать из их ето надо.
— Как же я заколю, што же я мужу скажу?
— Ну, скажи, што оне умерли, доспелось чо над имя́, а только заколи.
Товда идут из школы дети. Етот, тот, который съел, уж всё знат.
— Брат, — говорит, — сёдни нас колоть будут.
— Ну, не ври, — говорит другой-то.
Вот дети прибежали, поужнали, идут к себе заниматца, задачи там решать.
— Вот, брат, нас сёдни колоть будут. — Один твердит, который всё зна́т на свете.
А тут идёт повар с ножиком к имя́ в кабинет.
— Выходите, дети милые, — сам плачет.
А повару наказали деток заколоть, только сердце да печонку выташшить, а их самих куды, хоть в сортирную яму, бросить.
— Дедушко, — стали просить, — заколи ты шшенёнка — родился у нас. Спаси ты нас гля нашей молодости, а мы пойдём бродяжить. — Дети убежали, короче сказать, бродяжить.
А повар заколол два шшенка и приготовил сердце и печонку. Ну, и побежали ети дети страмствовать. А етот восподин, хахаль етот, съел шшенячьи сердце и печонку. И нечо тут не знат.
— Да ето, — думат, — все пустое. Зря загубил и утку и парнишек.
И давай он через несколько времени кровью харка́ть.
Приезжат её муж домой.
— Где же у нас Коля и Митя? Не стречают меня.
— Ах ты, мой дорогой, Коля и Митя захворали, и вот нашолся лекарь, завладел имя́, а оне всё-таки померли.
Спрашиват и про утку.
— А утка пропала.
Муж стал об детях, об утке тосковать, сбился с печали, как бы с ума, и не на што уж не стал го́ден, и оне ево в зимовьё как-то спихну́ли — он там и живёт, а етот хахаль живёт с ней и на наследство харкат.
Пущай они живут, а мы будем говореть про парнишек, как они страмствуют.
Вот оне бежали-бежали, устали, прилегли к дереву какому-то и уснули. Как Митя съел кишки́ и потроха́, он всё знат, а как он съел ету утку, стал золотым бирлянтом плевать (Забыла я об етом сказать: у утки-то подписано ето было). И уснули у дерева крепким сном. Наежжают на их сорок разбойникох. Атаман кричит:
— Потише, братцы, потише! Тут дети спят, кабы их не испугать. Ето каки-то безвинны, каки-то заблудя́шши, беспричинны. Как б их не испугать?
Подъехали, обглядели, собрали бирлянты, што кругом лежали, а их не стали шевелеть. Не стоит губить молодых ю́ношев. Разбудились, пошли оне путём-дорогою дальше. Доходют оне до чужово городу.
— Так ты, братец, поди свою долю искать, а я пойду свою искать.
Разделились, пошли по разным.
Как Митя зашол к древной старушке:
— Бабушка, пусти переночевать.
Пустила, переночевал. Покорьмила она ево. Утром старушка стряпает пирожки белые. Настряпала, кладёт в корзинку.
— Бабушка, ты куда ети пирожки хочешь?
— Вот состряпаю, да и продам. Ро́бить-то я, ведь, не могу. А сечас на базар иду с пирожкам.
— Бабушка, дозволь мне их сносить продать. Я принесу тебе деньги, ондам.
— Де же я их дам тебе, голубушка, продавать, ты ешшо с имя́ уйдёшь, да и корзину унесёшь, а я старуха бедная, меня легко обидеть.
Ну, Митя всем серцем припал к ей:
— Бабушка, не обижу тебя, и копейки твоёй не унесу. Дай пожалуста.
Как старуха пожалела Митю:
— Ну, ступай, бог с тобой, принесёшь не принесёшь.
Пошол Митя по городу — видит, стоят солдаты: двое или трое.
— Ну-ка, солдаты, налетайте на пирожки!
Те бедны, што же, обрадовались, расхватали по пирожку. Корзину на руку — с простой корзиной пошол Митя. Приходит к старухе, подаёт ей бирлянт. Чо же — чо сплюнет, то и бирлянт. Старуха испужалась и обрадовалась.
— Да ты же, бабушка, мне не верила.
— Не будет ли, дитятко, каких допросох с меня?
— Не бойся, бабушка, ничево не будет.
И так в течение месяцу он ходил у ей с пирожками, и натаскал ей зыбку бирлянтох. А пирожки все солдатам раздавал. И солдаты уж признакомились: новой солдат скажет:
— Митя, на тебе на конфетки.
— Не надо, ешьте, бог с вами.
Пожи́л он у ей месяца два.
— Я пойду, — думат на уме, — брата посмотреть, што он делат. — А тебе, бабушка, спасибо за добрый твой привет.
Скоро сказыватца, а уж време-то много прошло… И вот в одно время царь помер. И потом между собой тут графы, князья стали спорить, кому быть царём. И никому не охота уступить. И решили на етом: приложи́ть икону и свечу к ей.
— И будем приклаживатца все. От ково свеча затеплитца, тот и будет царём.
И вот стали все приклаживатца. И из вы́шших лиц все уж приложились, ни от ково свеча не затепливатца. Все переходили уж. И низшие стали уж подходить. Тоже не затепливат. Вот все переходили.
— А вон ешшо мальчик стоит, не прикладывался.
А ето Коля был. Коля приложился, свечка затеплилась. Ну, и закричели тут:
— Ура, ура!
Посадили Колю на корону. И стал Коля служить царём. И Митя товда же в етот город пришол и стали два брата тут вместе жить. Митю то он тоже вы́шшим чином доспел. Потом в одно время придумали оне:
— Съездим-ка на родиму сторону, посмотрим, какая жисть у отца. Живёт ли там ешшо етот хахаль, язвительник?
И приезжают оне в етот город, где их отец живёт. А етот преступник уже таку силу забрал, што без докладу к ему не ходют. Вот как етот царь Николай, надел на себя плащ, прикрыл ети все царские за́слуги, и подходют к дому отцову, вроде простых. Тайно, значит, идут. И потом приходют к дому. Часовые их не пускают.
— Ой, — говорит, — наш барин спит!
— Идите, доклада́йте барину без никаких.
А те, часовые, не идут.
— Мы не смем. Он у нас гро́зной, строго́й.
Заходют товда оне в дом своим управством. Прибегат тогда их барин.
— Кто смел ко мне зайти? — кричит.
Как Коля с себя немного снял, тот и увидел, што царь. Тут все испугались, засуетились. Видят, што царь пришол по какому-то делу. А оне молчат, видят и мать тут свою. Потом, сколь оне тут закусывали, етот царь и говорит:
— Што же ето за скука така навалилась, некому ли у вас какой историйки рассказать. Или вы сами можете?
— Нет, не могу я ничево рассказать.
— Может каково дворника нет ли у вас, может он расскажет?
— А, впрочем, у нас во флигеле, в зимовье, старичонка живёт, может он не скажет.
Привели етово старичонка. Етот царь приказыват одеть ево. Ну, нача́ли оне одевать ево там во всё бариново, кальсоны старые да пинжак.
— Нет, — кричит царь, — одеть ево во всё новое, а не в обноски!
Одели живо старика.
— Проходи, дедушка, садись.
Садит в середину ево. Оне видют, што ето отец наш. Ну, проходит старик, садитца. Начинают оне спрашивать ево:
— Что же, дедушка, ты расейской али здешний уроженец?
— Ваше величество, здешний я уроженец.
— А кем же тут, дедушка, находился?
Он старик-то уж боитца имя́ сознатца и соврать то не смет.
— Вот, — говорит, — по закону-то я хозяин тут, а обратили меня в дворника.
Ну, товда приказал царь:
— Затопите-ка плиту пожарче.
Ну, и етово на горячую плиту, хахаля-то. Сказнили ево, хозяину признались оне:
— А мамашу мы уж не смели шевелеть, нет правов мать казнить — ты сам с ней, как знаешь.
И обсказали всё отцу, как утку зарезали, и как их самих хотели убить. Ну, и стали оне тут жить, мать-то повинилась, и отец её простил.
Словарик
имя́ — им.
источиться — истощиться.
конь (ж. р.)— конь, возможно, кобыла.
приклаживаться (приклаживатца) — прикладываться.

Сказительница Наталья Осиповна Винокурова.
Записал Марк Константинович Азадовский в с. Челпаново по реке Куленге (сейчас село не существует, рядом находится село Белоусово Качугского района Иркутской области), предположительно в 1915 году.
Впервые напечатана в этнографическом сборнике «Сибирская живая старина», выпуск 11. Иркутск, 1924.
Другие версии этой сказки
16. Счастье — 17. Счастье
Сказки Натальи Осиповны Винокуровой, собранные Марком Константиновичем Азадовским
1. Колдун и его ученик — 4. Орёл-царевич и его сын — 5. Чудесный сын — 6. Микитко или Нерасказанный сон — 7. Сын от цаловка или Звериное молоко — 10. Обещанный сын или Брат и сестра — 11. Заклятой сад — 12. Освобождение царской дочери солдатом — 15. Утка с золотыми яйцами — 18. Верная жена — 21. Мудрая жена — 22. Чудесное кольцо — 23. Двенадцать молодцов из табакерки — 25. Иван Царевич, серой волк и Елена Прекрасная — 27. Жена-оборотень — 28. Солдат и мертвец-помещик — 29. Купеческая дочь и кучер — 31. Купеческая дочь и разбойники — 33. Министрова жена — 34. Про Перфила — 38. Горе — 40. Марко богатый и Василий
