Орёл-царевич и его сын.








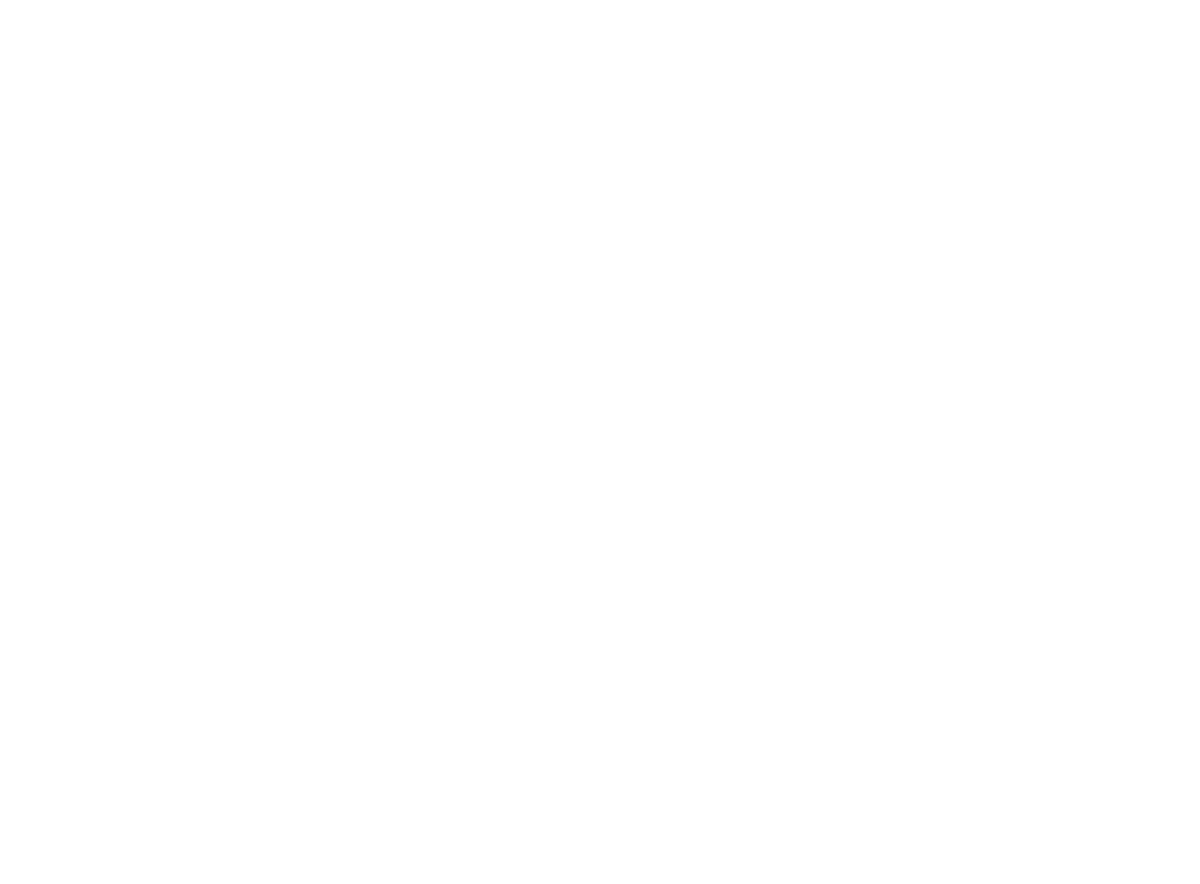
Жили-были мышка да воробей. Ну, как мышка в страду напасат себе всево, а воробей — летучий: ничо́. А зима на тот раз была жестокая, трескучая, холодная. Воробью спастись не́куды, он — мышке в нору:
— Голубушка-кумушка, содоржи́ меня, покаль лютый мороз.
— О, — говорит, — онна́ко у меня провля́нту не хватит.
Ну, он её милости просит:
— Пусти, да пусти, мышка.
— Ну, пойду я провля́нты свои посмотрю, ежли хватит, так пушшу тебя.
Обсмотрела свои закромы́ и согласилась она ево пустить.
— Хочь сыты не будем, и с голоду не пропадём.
Ну согласились оне вместе жить.
— А летом будем вместе ро́бить. Ты будешь пшаницу собирать, а я носом молотить, да таскать буду.
Весна прилетела, воробей споркнул и улетел. Мышке обидно стало, пошла она к своёму старшо́му на воробья просить. Собра́лся их суд большой. Собра́лися. И птица ето вся слетелася и гнуси́на: мыши, кроты там. И пошол суд у них. Суд имя́ ешшо недостаточно, открыли войну межу собой. Воевали оне двое суток. Ну, и разошолся их суд, одному орлу подстре́лили крылья — остался на пеньке.
Пошол в одно время Иван купеческой сын за охотой и видит етово орла, и снимат винтовку, метит ево убить. А орёл человеческим голосом отвечат ему:
— Иван-купеческой сын, не бей меня, я такой же человек, как и ты, только заклётый на некоторое время, а лутче возьми да корьми, я тебе полезен буду.
Подходит Иван-купеческой сын, спрашиват:
— А долго я тебя корьмить буду?
— Один год, — говорит, — меня надо корьмить.
— А каку же ты пишшу ешь?
— В сутки барана.
Ну, взял купеческой сын орла, приносит отцу.
— Вот так и так, таку находку сделал.
Обсказыват всё. Отец помолчал.
— Ето, — говорит, — дорого.
Ну, и опеть хоть и ворчит, да единственный сын — запретить жалко.
С полгода корьмил. Отец ругатца стал:
— Што же ето тако — в сутки барана. Гля какой ты пользы ево корьмишь?
Потом отец осердился, выбрал как сын отлучился — и велел орла в абраг бросить, и не велел ска́завать куды и бросили. Одна горнишная только заметила, куды ево понесли́, и потихоньку ему сказала. И он етово орла взял из абрагу и предоставил на фатеру к дре́вной старухе. Предоставлят в сутки барана и только ко́рьмит потихоньку от отца. Остаётца до году корьмить один только месяц, а отец узнал, што сын всё-таки ко́рьмит ево, рассердился на не́слуха сына — взял и выгнал в одним пинжачке ево. Приходит купеческой сын к орлу с горьким слеза́м:
— Не то што, — говорит, — тебя корьмить, самому есть не́чево стало.
— Ну, так што ж, пойдём, — говорит орёл, — силу пробовать.
Вышли оне там на плошшадь.
— Ну-ка, — говорит орёл, — садись на меня, да доржи́сь покрепче.
И поднял ево на себе под о́блака, по́днял под о́блака и опустил — бросил. Иван-купеческой сын только хотел не жив упасть, тот не дал ему упасть и подхватил ево. Потом как оне о́стапо́ва́лись:
— А што же ты думал, — спрашиват орёл у етова купеческово сына, — когда летел?
— Да што думал? думал упаду, так разобьюсь.
— А ето я первый долг уплатил вам. Ковда я на пеньке сидел, ты в меня це́лил, я тоже думал, што смерть моя будет. Ну, товда сади́сь на меня и полетим, куды наши глаза глядят.
Вот оне долго ли, коротко ли летели, прилетают к какому-то городу и остонавливаютца за́ городом.
— Ну, вот што, Иван-купеческой сын, дай три пота с себя, сослужи мне одну службу.
— А где же я могу спотеть? — отвечат.
— А вот лезь на заплот.
Тот залез.
— Вот тряси меня за уши до тех пор, покуль у тебя руки, ноги опустятца.
Ну, тот трёс, трёс, уж моченьки у ево нет. Пот с ево гра́дом льёт.
— Ну отдохни, — говорит, — ешшо два пота дай мне, — говорит.
И стали у ево уж ноги по колени человечески из етой шкуры. И опеть давай ево трести. Трёс, трёс. Уж моченьки у ево нет. Пот с ево градом льёт, а стало ево уж до грудей видать.
— Ну, топерь треси в последний раз, докуль кожа на руках останетца. А то не выдюжишь, всё наше с тобой пропало.
Вы́трёс он ево из етой кожи, стал орёл молодцом пред ём.
— Ну, топерь побратуемся.
Стали оне назывные братья — и условие дали, штоб не покидать друг друга.
— Топерь иди в такой-то дом, там есть така-та надпись, и проси там милостыню. Тут в етом дому́ моя сестра ста́ршая живёт. И приходи к окну, и проси милостыню не ради-христа, а ради орла-царевича. И хозяйка спросит: «Каку же милостыню тебе надо?» Ты проси от подва́ла золоты́ ключи, и обратно слушай, што она скажет, ежли не даст ключи.
Подходит он и просит, начинат таку милостыню, не ради-христа, а гля орла-царевича. А у окошка стояла горнишна, бельё гладила. Ну, и со всех ног к барыне бросилась:
— Што такое, по новой форме милостыню просют?
Барыня ето дело догадалась, пошла сама к окну, рассказал он ей всё про дело — и просит ключи. Она выслушала ето дело и говорит:
— Хошь сколько я с братом не видалась, но пушай ешшо столько не увижусь, а ключи не дам.
Ну, приходит он к ему, обска́зыват.
— Што же тут не удалось, пойдём к другой сестре в другой город.
Ну, короче сказать, тут имя́ также отказали. Пошли в третей город к ме́ньшей сестре, опеть пошол Иван-купеческой сын просить ету же милостыню. Та от всево серца обрадовалась:
— А где же он, орёл-царевич?
— А вот дай мне ети ключи, я на свиданье тебя ему приведу.
Подала она ему ключи ети. Ну, и потом пришли оне с етим с орлом, стали беседовать, пир у них. Свиданье, значит, у сестры младшей с братом сделалось. Ну, и потом орёл-царевич повенчал Ивана-купеческово сына со своёй сестрой.
— А я, — говорит, — пойду себе долю искать.
А Ивану-царевичу все двенадцать подвалох препоручил, в них много всяково злата и серебра.
А орёл-царевич приходит в чужестранной город. В етим городу жил бессмертной кашше́й, владел етим городом. И у ево была купеческа дочь укра́дена — доржал он её у себя. Несколько времени проживал етот орёл-царевич в етом городу, и ста́л гостить к етой кашше́ихе, как кашшея в городу нет. И ета кашше́иха стала от него забеременела. И в одно время захватил кашшей бессмертной орла у себя во дворце, и снёс ему голову, а она осталась от ево беременна. И как кашшей уехал, она без ево родила. И не знат, куды с ём детца. Всё равно кашшей ево убьёт. И удумала она ево в дубовой бочонок положить, на бочонке надписала, што не хрешшо́ное чадо, и спустила в море. И етому же самому купеческому сыну, которой на орловой сестре женился, пригрезилса сон, што будто на ево пристали новые корабли пришли. И он будит свою жану рано утром.
— Што такое за сон? Я поеду на присталь. Всё ли там благополучно?
Приеждат на присталь — плават у ево на пристали бочонок.
Ну, зло́вил он етот бочонок, видит литера́, што не хрешшо́ное чадо, схватыват етот бочонок и везёт домой к жане. Вот оне с жаной етот бочонок взяли, раскупорили, вынули оттуль де́тишше, и там записка, што от орла-царевича прижи́тки. И оне оба с жаной обрадовалися:
— Ето што же от нашево брата.
И пошли у их крестины. Окрестили, дали ему имя Василий. И своих у ево было двое парнишек. И стали оне с жаной ро́стить, как своево.
Ростёт он у их не по годам, не по дням, а прямо по часам. И вот о́ндали о́не ево в школу вместе со своим де́тям. Виду ему не подают, што ты не наш. Из школы дети бегут-балуют. Василий их тихохонько толкнёт — имя́ не смого́тно. Придут, жалятца, што вот нас Васька обижат. Ну, оне ничево не говорят ему. Дети да и дети. Вот однажды дети рассорились, старшо́й парнишка и говорит ему:
— Ты не наш, тебя нашли мы.
Тот прибежал со слеза́м к отцу, к матери. Те хотят ево разговореть; ну, он одно твердит:
— Отпустите меня; коли я не ваш, по́йду гулять.
Ну, уговорели ево кой-как. Остался он. По училишшу-то он лутче всех. Кто три года учитца, он в один год всё понял.
В одно время детишки играли стрелками и улетели ево стрелки на старый, на дряхлый подвал. Пошо́л он за етой за стрелкой и увидал етот бочоночек, и прочитал ети литера́ самые. И приходит топерь к отцу, к матере:
— Нет, вы не правду сказали. Вот и бочонок етот. Опускайте меня, пойду на все четыре стороны свою долю искать.
А темя́ жалко опускать ево. Но, несколько с нём время бились, не могут ничо с ём сделать, и они уже сами всё потребно ему рассказали, кто он и чей сын.
И пошол он в етот же город, где етот кашше́й бессмертной. И топерь у кашшея етово уж ограда вкруг городу сделано: не пропуска́т никово. Прямо етово кашше́ево дворца жила старушка в ветхленькой избе. Заходит к етой старушке етот самый Вася, проситца переночевать. Пустила ево старушка, покорьмила, што бог послал.
— Кто, бабушка, у вас етим городом владат? — спрашиват.
— О, дитетко, бессмертной кашшей етим городом влада́т. Народ весь замучил.
— Как, бабушка, етот город у вас крепко охронятца? — спрашиват.
— О, дитетко, ра́не просто́ было, все по простому ходили и ездили, это всё с причины доспелося.
— С какой такой причины?
— А у кашшея жана из русских украдёна, и тут рицарь жил, и стал к кашшеихе ходить, и кашшей созна́л ето всё дело, и ссек ему голову, а потом заставил тут заставы. И кашшеиха была от орла-царевича брюхата, и не знаю, куды скрыла младенца.
А етот всё на ус мотат:
— Так вот, бабушка-голубушка, быдь ты мне вторая мать родна, я к тебе с докукой. Сходи ты на базар, купи мне женскую одёжду и скрипочку, и вот тебе денег, купи нам закусочку. И не сказавай никому про ето. Вот, мол, женска у меня гостя, да и только.
Вот старуха пошла на базар, купила ему женску одёжу, скрипочку. Он в женску одёжду оделся, и старуху молил и просил, усердно просил, штоб она не сказовала, што он из мускова по́лку.
Сял он окошку на дворе, напротив кашшея, и стал играть во скрипочку — кашшею понравилась музыка. Слушал, слушал да и давай на своём балхоне плясать, и посылат при́слугу:
— Подите-ка, спросите ету девушку, не пойдёт ли она на вечер ко мне играть.
Девушку при́слуга спрашиват — а та (Вася-то):
— Я, — говорит, — не сумею, оннако, гля вашего барина сыграть — я из простых. Простая челдонка. Как сумею гля нево сыграть?
Вторично посылат при́слугу, штоб, мол, не отка́зовалась. Потому очень игра нравитца. Ну, посулился играть, а сам ладит записочку гля матери.
— Што ваш сын, который был в бочонке, нашолся; возро́с я у дяди. И, дорогая моя мамонька, спрашивай у кашшея, где ево смерть. Он два раза соврёт, третий правду скажет. А скажет, где смерть, так уважай её хорошенько.
И пришла при́слуга, повела ету девушку играть. Кашшею она очень понравилась. Хорошо играт, и очень умная, уважительная девушка. А кашшеихи своёй даже и ей не показыват — доржит её в двенадцатом етаже́, за проступку ету. Но Вася всё-таки схитря́лся, послал с горнишной записку матери. Как отошла ета танцыя, провожат ету девушку при́слуга домой, подаёт кашшей ему пятьдесят рублёв, а он тайным образом ети деньги горнишной и передал, штоб та записку оддала.
Ну, и как он, кашшей, натонцовался, нахлопался, натрепался, назавтре спит долго. Никовда етово у кашшея не бывало: ей подали чаю, она ево будит — и так ласково ево просит чай пить. Кашшей тому весьма зра́довался. То она ево не любила, а тут чай зовёт пить с собою. И за чаём разговор с ём повела:
— Што ето сколь мы с тобой, душечка, ни живём, а никовда с тобой не говаривали. И как ето охота тебе ети вечера́ делать, убивать себя до такой степени, и вот ты топерь устал. А де же, душечка, ваша смерть находитца?
Кашшею смешно стало:
— Гля чево же вам моя смерть?
— Какая же, — говорит, — я тебе жана буду, ковда ничево знать не буду.
— Моя смерть, — говорит, — у коровы в рогах.
— У которой?
— Да у пёстрой, — говорит. А сам улетел.
А она сейчас приказала ету пёструю корову занести к себе на етаж. Поставила её на дорого́й ковёр, и уставила её всяким света́м, и увязала её разным лентам. Вот приезжат кашшей, взглянул:
— Ето што ешо такое ты удумала?
— Ну, да што же ето, душечка, рази подобно твоёй смерти по дворам таскатца. Ешшо могут твою смерть убить да я вдовой останусь, лутче же я сама буду содаржать, ходить за ей вместо всякой при́слуги.
Кашшею любо ето стало.
— Выведи, дура, не тут моя смерть.
Ну, корову угнали, светы́ сняли, а она заплакала:
— Што, мол, правды не скажешь.
А кашшей от радости не знат, куды деватца, што злюбила ево баба. Вот опеть вечер делат, опеть зовёт ету девушку играть, и опеть сын записку наладил:
— Спрашивай пу́шше, где смерть.
Ну, короче ска́зовать, кашшей опеть натонцовался, опеть лёг спать — и опеть поутру она ево будит и спрашивает про смерть ево:
— Какая же я вам жана буду, ковда ничево знать не буду.
— Моя смерть у козла в рогах, — сказал и улетел.
Она сечас приказала нести етово козла к себе на верх, на ковёр поставила, уви́ла женчугом, золотом. Вот опеть прилетат кашшей, взглянул:
— Ето еще чо такое?
— Ну, да што же, душенька, рази хорошо твоёй смерти по дворам таскатца.
А он смеётца:
— Дура ты, дура, выведи ево вон!
Потом она заплакала:
— Сейчас, как ты меня не любишь, добром правду не скажешь, я себя смерти предам. Я тебе всёй душой, а ты не любишь меня, да правды не говоришь.
Ну, развылась. Кашшей и стал правду сказовать:
— Ну, дура и дура! Да, вот где моя смерть: моя смерть за трём землям, на дикой степе, никто туды не ходит, никто туды не ездит, за́ морем. За етим мо́рем стоит будка, в етой будке яшшик прикованный, в етим яшшике коробка, в етой коробке утка, в етой утке яичко, в етом яичке — моя смерть. Ковда ето яичко изломатца, товда моя смерть будет.
Она взяла, всё ето списала на гумажку и посла́ла сыну с горнишной. Сын получил ету записку, весьма рад зделался.
Ну, со старушкой попрошша́лся — оставил ей капиталу и говорит:
— Ты, баушка, никому не говори и не вынасивай, может, еще и повидаемся, а я пойду страмствовать.
Долго ли, коротко шол он, до таково места дошол, што ни купить, ни нанять ничо нельзя, и идёт голодный. Какой то пле́сненый сухарёк был ешшо у ево:
— Дай-ка, — думат, — помочу в море да съем.
Только на берег пришол, помочил, подбегат рыба и вырвала у ево етот кусочек.
— Што же ты у меня, у прохожево, оста́льной кусочек взяла?
Ну, он плечом пожал и пошол. День был ясной, жаркой. Вышла самая большая рыба сушитца на солнце. Лежит, как большая гора. Вот он себе и думат:
— Отпушшу я свою трость, отлетит от неё какой-набидь обломок, и съем я ету рыбу.
Рыба отвечат ему:
— Не умышляй, прохожий! Ты моим куском вечно сыт не будешь, а мне будет вечно больно, а лутче я тебе гожуся.
Пошол, не стал шевелеть рыбу. Переносит на себе (голод). Бежит собака — у ей три шшенёнка, а он до тово голодный, што хотел палкой одново шшенёнка убить. Собака отвечат ему:
— Вечно моим шшенёнком не наешься, а я вечно буду на тебя жалобу творит. А я тебе ешшо гожусь.
Ну, и пошол он далее, опеть путём-дорогою, и доходит до тово самово моря, где будка стоит. А у моря ни перевозу, ни олдьи — ничо нету. Сял, повесил голову и сидит. Вот видит: море колыбатца, ета самая рыба, у которой он шпат хотел отрубить, зволновалась и прёт ему будку на себе.
— Ну, што, доволен ты моей за́слуге?
— Спасибо, — говорит.
Заходит он в будку, ломат етот яшшик, разломал яшшик, а в будке дверь не запер — утка из шкатулки и улетела на степь.
— Вот грех какой!
И сял, тошнее тово голову повесил.
— В руках было да не мог взясть.
Не откуль ета собака, у которой он шшенёнка пожалел, та́шшит ему утку: на полету́ задавила.
— Ну, видишь, прохожий человек, и я тебе пригодилась.
Собаке поклонился до по́ясу. Сял утку распороть; утку-то распорол, яйцо и укатилось назадь в море.
— Што же ето я за дурак, што я за не́учь такая!
Вдруг видит море зволновалось, и ета, котора сухарь выдернула, рыба ташшит ему яйцо. Положил яйцо на место и пошол обратно.
Ну, а кашшею дома плохо стаёт. Смерть тронулась ево. Ну, скоре́ сказать, доходит он опеть до етой старушки, у которой был первой раз.
— Ну, што, баушка, у вас новенькое?
— Вот и новенькое, кашшей в постели лежит, ничем уже недвижимый лежит.
Переночевал он у старушки. Завтре идёт прямо во дворец к кашшею — смело уже идёт. Кашшей ево из милости просит:
— Ондай ты мне ето яйцо, ставай на моим занятии, а я уйду отсель.
Он тому не внимат, взял ето яйцо, хлопнул и кашшей здох. Вот он кашшея сожог, пепел перевеял, просеял, и отправил на пух-прах. Народ-то весь обле́гчился. Пошол звон, пение, радость. А сам пошол отца отрывать. Отца отрыл, етим яйцом намазал — и отец у ево ожил. Ну, и вот стали жить, поживать, да добра наживать. И дядя на етот пир пришол, у которово он жил.






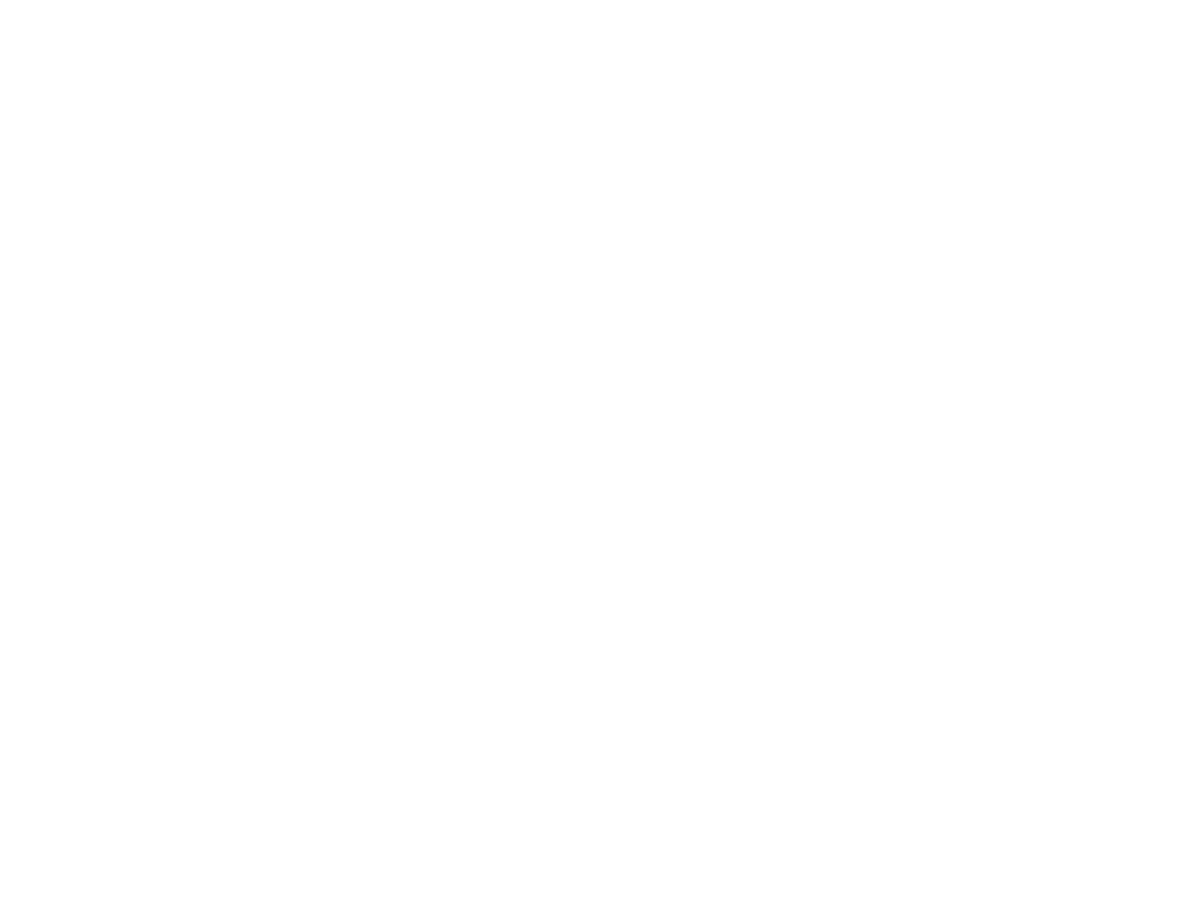
Словарик
балхон — балкон.
ветхлая — ветхая.
вынасивать — выносить (сор из избы), болтать.
гнуси́на — мошка, комары, а также всякие «нечистые» животные: мыши, кроты, крысы.
жив (в выражении: «только хател не жив упасть») — испугаться гибели.
имя́ — им, (к, с) ним.
муской — мужской.
назывные братья — названные братья.
олдья — ладья.
оста́льной — последний.
патребно (потребно) — как следует.
провлянт — провиант.
проступка — проступок.
рицарь — рыцарь.
светы́ — цветы.
смаго́тно (смого́тно) — вмоготу.
схитря́ться — ухитряться.
шпат — кусок.

Сказительница Наталья Осиповна Винокурова.
Записал Марк Константинович Азадовский в с. Челпаново по реке Куленге (сейчас село не существует, рядом находится село Белоусово Качугского района Иркутской области), предположительно в 1915 году.
Впервые напечатана в этнографическом сборнике «Сибирская живая старина», выпуск 11. Иркутск, 1924.
Постановка и исполнение: актер Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопокова Андрей Винокуров.
Аккордеон: солист Иркутской филармонии, лауреат российских и международных конкурсов Сергей Фукалов.
Сказки Натальи Осиповны Винокуровой, собранные Марком Константиновичем Азадовским
1. Колдун и его ученик — 4. Орёл-царевич и его сын — 5. Чудесный сын — 6. Микитко или Нерасказанный сон — 7. Сын от цаловка или Звериное молоко — 10. Обещанный сын или Брат и сестра — 11. Заклятой сад — 12. Освобождение царской дочери солдатом — 15. Утка с золотыми яйцами — 18. Верная жена — 21. Мудрая жена — 22. Чудесное кольцо — 23. Двенадцать молодцов из табакерки — 25. Иван Царевич, серой волк и Елена Прекрасная — 27. Жена-оборотень — 28. Солдат и мертвец-помещик — 29. Купеческая дочь и кучер — 31. Купеческая дочь и разбойники — 33. Министрова жена — 34. Про Перфила — 38. Горе — 40. Марко богатый и Василий
